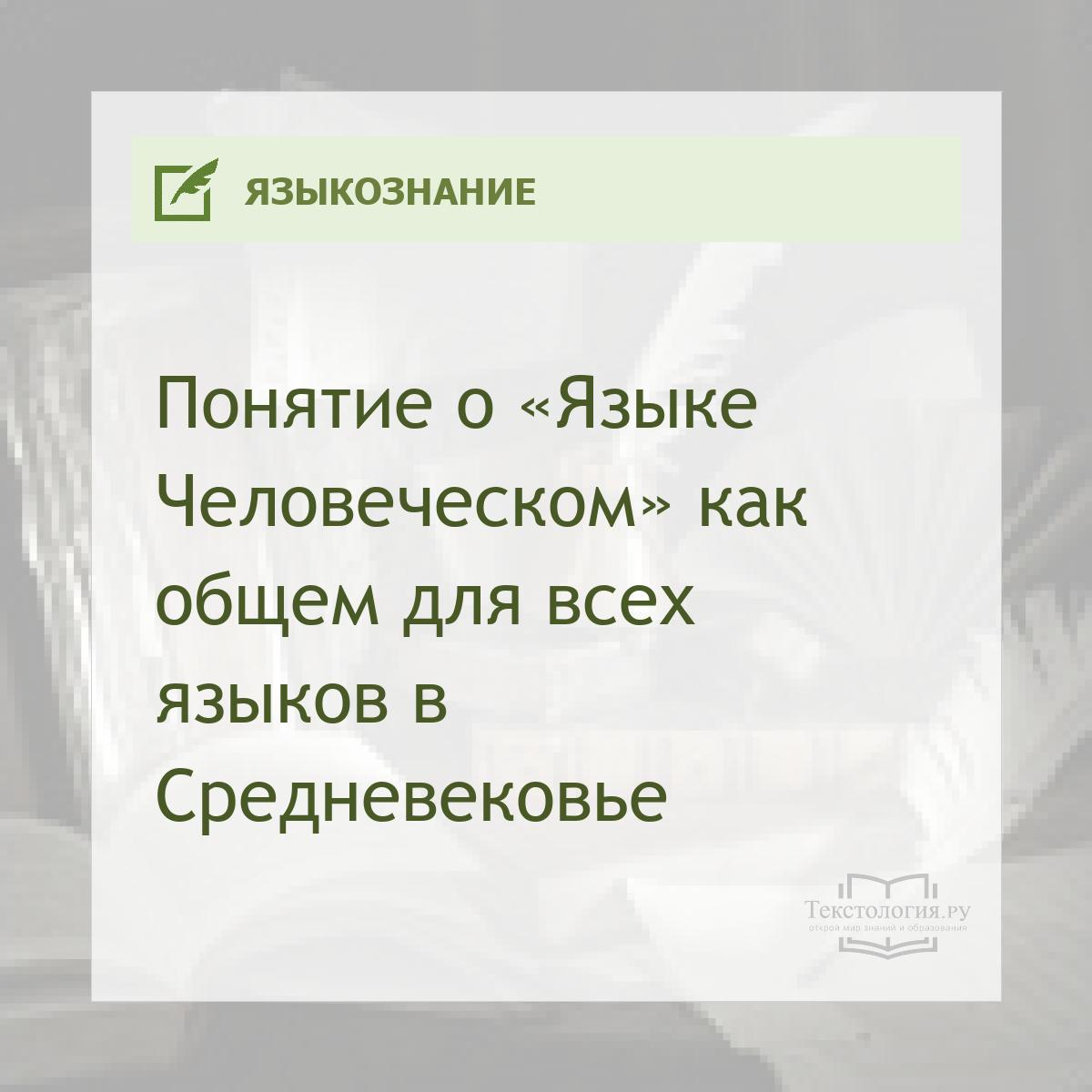
Во все предыдущие века в Древней Индии, Греции, Риме люди как бы не замечали языки своих соседей, жили в гордом сознании своей языковой исключительности. Отличительный признак варвара не уровень культуры, не религиозная принадлежность, не раса, а «бессмысленное бормотание». Даже беглые упоминания о варварском языке у Платона — редкое исключение для античного мыслителя, на его «лингвистической карте мира» только два языка — родной и прочие. Римлянин, правда, видел три, но существа картины это не меняло. «За своими границами культурные народы древности видели только «варваров», и им, по всему их мировоззрению, не могло прийти в голову уделить какое бы то ни было внимание языкам этих варваров, не говоря уже о научном их исследовании».
Картина тем более парадоксальна, что «за своими границами» культурные народы древности видели все — религиозные и правовые институты, одежду и утварь, животных и растения, слышали любые сказания и легенды, но не слышали языка. Родной язык, подобно отечеству, обладал абсолютной ценностью, александрийские грамматики изучали язык потому, что это был язык Эллады, язык Гомера.
Как известно, формула «алфавит следует за религией» применима именно к эпохе феодализма, в Средние века появилась письменность у многих прежде бесписьменных народов. Но для науки о языке последующих веков не менее существенным был «переворот во взглядах на языки земного шара», стимулированный христианством, о чем неоднократно писал И. А. Бодуэн де Куртенэ.
Этот переворот был закономерен: ни Греция, ни Рим не стремились к прозелитизму, не несли свою веру варварам; иудейский мессианизм в пределах греко-римского культурного ареала был весьма ограниченным, христианство же с самого начала обращалось с проповедью ко всему миру. Когда Григорий Назианзин говорил в своем «Слове»: «Внимайте, народы, племена, языки, люди всякого рода, всякого возраста, — все, сколько есть теперь и сколько будет на земле», — это не было в его устах риторической фигурой, но лишь провозглашением христианской доктрины.
В Средние века утвердилось учение, что многочисленные языки при всем их внешнем разнообразии в сущности своей представляют собой, как сказали бы мы сейчас, варианты, реализации одного инварианта — единого Языка Человеческого. «Ты глуп, — писал Тертуллиан, — если станешь приписывать это одному только латинскому или греческому языкам, которые считаются родственными между собою, отрицая всеобщность натуры. Душа снизошла с неба не для латинян только и греков. Все народы — один человек, различно имя; одна душа, различны слова; один дух, различны звуки; у каждого народа есть свой язык, но сущность языка всеобща». Христиане не отличаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни обычаями. Они не употребляют какого-либо необыкновенного наречия. Для них всякая чужая страна — отечество, и всякое отечество — чужбина, писал один из ранних апологетов.
Климент Александрийский, чьи основные сочинения датируются концом II в., утверждал: «Вся человеческая семья делится на эллинов и варваров». Однако цель у Климента противоположна той, какая была у мыслителей Древней Греции: он хотел убедить читателя, что в науке, культуре и языке первенство принадлежит варварам, что греки — не более чем дети на мировой арене, они только развили и усовершенствовали то, что было творчески создано другими. «Наречия первоначальные и образующие суть наречия народов, которые у эллинов слывут под именем варварских. В названиях предметов у них обозначается самое существо их, природа, почему признано, что молитвы на языке варварском более действенны, чем на других языках».
Правда, некоторые отцы церкви не могли скрыть своих особых симпатий к греческому и латинскому языкам. Иероним Стридонский хорошо знал несколько языков и чрезвычайно гордился этим, не упуская случая уязвить своих оппонентов напоминанием об их невежестве. Но блестящими, живыми, сладостными, доставляющими истинное наслаждение говорящему и слушателю, признавал только греческий и латинский. Он страстно любил античных «языческих» авторов, но считал эту любовь греховной, каялся в ней, клялся отстать от них, забыть, стать христианином, а не цицеронианцем, а потом вновь возвращался к сладостным его сердцу Туллию, Плату, Горацию и принимался сетовать, что слишком долго читал еврейские тексты (Библию!) и тем, должно быть, испортил свое прежде безукоризненное произношение.
В одном из своих писем он сообщает в Рим: «Теперь я занимаюсь вашим письмом, обнимаю его, оно говорит со мною, оно одно только знает здесь по-латыни. Здесь нужно говорить или варварскою полуречью (barbarus semisermo) или молчать». Речь библейских пророков казалась его утонченному вкусу грубой.
Главным делом своей жизни он считал предпринятый им перевод Библии с еврейского языка на латинский, но вот что он рассказывал о начале изучения еврейского языка: «Для укрощения его [своего ума] я отдал себя в обучение некоему брату, обратившемуся в христианство из евреев, чтобы после остроумия Квинтиллиана, плавности Цицерона, важности Фронтона и легкости Плиния поучиться азбуке и потрудиться над трещащими и захватывающими дух [еврейскими] словами». Он всю жизнь жаловался, что ему приходится читать Библию на языке подлинника, в котором слова «шипят, трещат и дышат тяжело».
Рассказывая об Оригене, он счел нужным поставить ему в особую заслугу то, что «он имел такое усердие к изучению Священного Писания, что, несмотря на свои лета и вопреки природным склонностям своего народа, учился даже еврейскому языку». Безусловное предпочтение отдавал греческому языку и Исидор Севильский.
И все же переворот во взглядах произошел, и процесс был необратим. Уже античных мыслителей подчас ставил в тупик вопрос: если люди, говорящие на разных языках, называют одно и то же разными именами, как решить, какое имя истинное, т. е. соотносится с сущностью именуемого, а какое — результат «порчи» языка? Если для эллина самым истинным был язык богов, далее шел эллинский, а на последнем месте стоял варварский, то раннесредневековые теологи — Климент Александрийский или Ориген — изменили этот порядок, но во многом продолжали двигаться в русле античной мысли. Даже мнение Платона о «языке богов» Климент излагает бесстрастно, как бы разделяя его.
У авторов последующих веков первое место оказалось вакантным, ибо они отвергли само учение о соответствии каких-либо имен сущности именуемого, восходящее, но их мнению, к Платону. Ни один язык не имеет в этом аспекте никаких преимуществ перед любым иным. У нас нет оснований признавать какой-то язык или какие-то слова истинными, т. е. орудиями господства, управления именуемым, а другие — ложными или хотя бы менее истинными, ибо для грека правильными будут слова его языка, для римлянина — его, для сирийца — его, и так до бесконечности, пока не будут перечислены все языки, — таков смысл суждений о многоязычии, о природе различных языков и сущности каждого имени, наиболее широко принятых средневековыми мыслителями.
В их рассуждениях об имени постоянно слышится явная или скрытая полемика с греческими философами. «Как пройти мимо этой тщательной и обдуманной философии, где он [Евномий] говорит, что не только в делах, но и в именах обнаруживается премудрость Бога, свойственно и естественно приспособившего названия к каждому сотворенному [предмету]? Говорит это, вероятно, или сам прочитав диалог Платона „Кратил", или услышав от кого-нибудь из читавших; по великой, думаю, скудости мыслей сшивает со своим празднословием тамошнюю болтовню…
Оглушенный благозвучием Платоновой речи, он считает приличным сделать догматом церкви его философию. Сколькими, скажи мне, звуками, по различию народов, именуется небо? Мы (греки) называем его ουρανός, еврей — шамаим, римлянин — caelum, и иначе сириец, мидянин, каппадокиец, мавританец, скиф, фракиец, египтянин; даже исчислить нелегко различия имен, существующие в каждом народе относительно неба и прочих вещей. Какое же, скажи мне, естественное имя их, в котором обнаруживается величественная премудрость Божия? Если предпочтешь прочим эллинское имя, то тебе, быть может, противостанет египтянин, выставляя свое. Если отдашь первенство еврейскому, сириец выставит свой звук, также и римлянин не уступит им первенства; мидянин также не допустит, чтобы не его слова первенствовали; и из прочих народов каждый сочтет достойным первенства свое. Итак, чего не потерпит это учение, при таких различиях слов разрываемое спорящими?».
А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон — История лингвистических учений — Л., 1985 г.

 |
Широко дискутировавшиеся в античной философии вопросы о правильности одних имен и исп...
|
 |
Для всех без исключения средневековых учений о происхождении языка опорой служил один...
|
 |
01.05.2025
1 мая вся страна отмечает Праздник весны и труда. Он посвящен солидарности трудящимся ...
|
 |
03.05.2025
3 мая празднуется Всемирный день свободы печати, напоминающий о том, что каждый читат ...
|