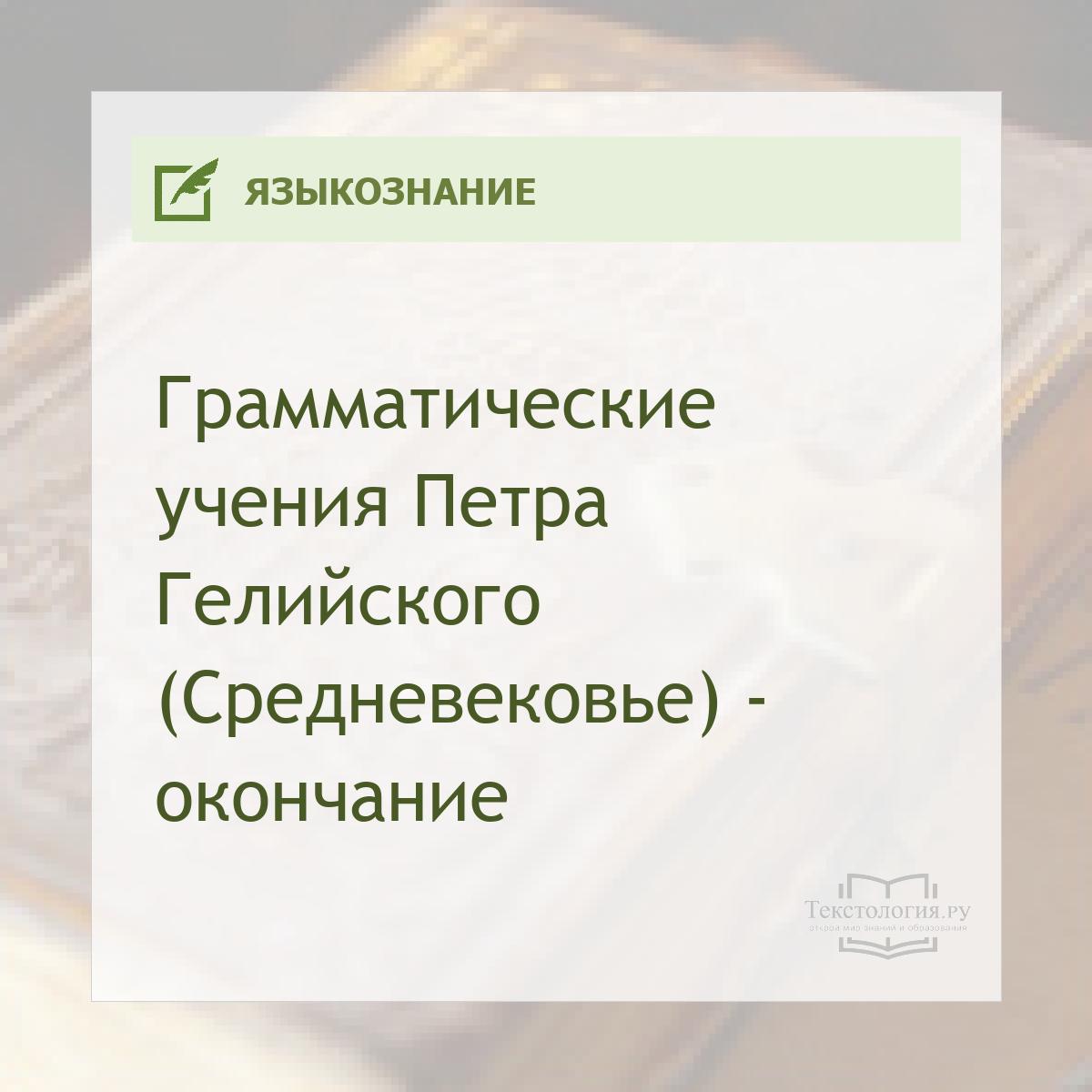
Развитие нового подхода к решению грамматических проблем и попытку Петра Гелийского внести определенную ясность в некоторые запутанные вопросы можно иллюстрировать, как это делает Хант, учением о глаголе.
В определении глагола у Присциана главный упор делается на значении «действие» или «претерпевание действия»; глоссаторы добавляют к этому понятие присущности, которое они по всей вероятности почерпнули из работы логика, неизвестной в настоящее время. Это делается для того, чтобы можно было отличить значение глагола от значения имен и деривативов.
Дискуссия в Glosule развивается следующим образом: если глагол обозначает чистое действие или претерпевание действия, его значение соответствует значению имени, так как имена действия или претерпевания обозначают все действия и претерпевания действия. Глагол же не просто обозначает действие, но дополнительно сообщает, что действие заключено в действующем лице, например, «он бежит». А имя, например «бег», хотя и обозначает действие, не указывает, что оно «заключено» в каком-либо лице. Глагол обозначает неотъемлемость и действия, и субстанции, и таким образом можно сказать, что он обозначает действие и субстанцию, но иным способом, чем имя.
У Петра Гелийского мы наблюдаем попытку освободиться от вопросов, не имеющих отношения к грамматике. Он усматривает различие между первоначальной целью, ради которой глаголы были изобретены (обозначать действие субстанции или претерпевание ею действия), и позднейшим расширением употребления глаголов, в результате которого глаголы приобретают способность обозначать качества и другие акциденции, например «белеет» (albet). Но, даже будучи столь расширенным, значение глагола связано с обозначением времени и является высказыванием о чем-либо.
Посредством такого общего определения Петр Гелийский отметает обычные возражения. Он вполне осознает, что является новатором («Так как, однако, о значении глагола мы судим иначе, чем остальные, мы сочли необходимым привести наше мнение по этому вопросу... и в этом мнении будет заключено решение») и отстаивает свою точку зрения как более соответствующую грамматике.
Отдавая должное кропотливым изысканиям Ханта, необходимо сказать, что к числу наиболее значительных результатов его исследования надлежит отнести выявленную им неразрывную связь работы Петра Гелийского с трудами его предшественников, имена которых, к сожалению, пока остаются неизвестными. Ханту удалось подчеркнуть логическую направленность работы глоссаторов, о чем до него лингвисты совершенно не были осведомлены; однако не следует из этого делать вывод, что подобный метод охватывал всю грамматику в том виде, как она тогда преподавалась.
Повышенный интерес к логике в грамматике, по-видимому, не оказывал существенного воздействия на толкование текстов классических авторов. «Диалектика остается доминирующим партнером, но преподаватели artes ставят пределы ее применению к грамматике».
Хотя определение грамматики Петром Гелийским («сочетание букв в слоги»), по-видимому, призывало к рассмотрению звукового строя языка, он не уделил внимания исследованию этих вопросов. Его интересовали словообразование и словоизменение.
Задаваясь вопросом, почему в латыни насчитывается именно шесть падежей, Петр Гелийский пытался найти решение, исходя из логических критериев. Как видно из определения, под падежом он понимал не только формы словоизменения, но и формы словообразования, что соответствовало традиционному взгляду, идущему от античных времен: «Падеж — это свойство слова, заключающееся в его превращении в другое слово или в его образовании от другого слова (лат. proprietas cadendi in aliud vel ab alio) и происходящее из различных способов рассуждения об одной и той же вещи. И „быть склоняемым или производным" здесь означает „стать иным словом"... Причина раздельных падежей, которые были изобретены, состоит в различных способах рассуждения о вещах... Шесть падежей были изобретены, и больше не требовалось».
Подобный комментарий о системе падежей был весьма характерным для традиционных средневековых латинских грамматик, основывавшихся на положении Аристотеля о единообразии представления о мире вещей у всех людей независимо от языка, на котором они говорят. В соответствии с латинскими словоизменительными нормами Петр Гелийский утверждал, что имеется шесть и только шесть способов рассуждения «об одной и той же вещи». Латинская система склонения выступает здесь как логико-грамматический эталон для любого языка. Тот факт, что греческий обходится всего пятью падежами (включая вокатив, что делали не все грамматики), если и был известен исследователям, вряд ли мог поколебать их уверенность в правильности этих заключений.
Обращает на себя внимание своей оригинальностью рассуждение Петра Гелийского о том, что в существительном, которое он называет первой и наиболее благородной частью речи, особое место принадлежит окончанию как последней, «самой благородной части слова», поскольку именно с помощью окончания выявляется значение: «когда мы слышим речь, разум обычно не воспринимает ничего до тех пор, пока мы не дойдем до конца слова...».
Несомненно, что «значение», о котором говорит Петр Гелийский, в этом контексте следует понимать как формальное, грамматическое значение в противоположность лексическому, которое чаще всего заключается в первой, а не в последней части слова в латинском языке; во всяком случае точка зрения Петра Гелийского существенно отличается от определения существительного у Аристотеля: «Имя есть звук, наделенный значением в соответствии с соглашением... никакая отдельная засть которого [звука] не наделена значением» (Об истолковании, I, 5).
Логическая точка зрения наиболее явственно проступает и в определении Петром Гелийским частей речи. Средневековье унаследовало два различных способа определения классов слов. Логики приняли определения Аристотеля из De interpretatione, в то время как грамматики переняли более поздние определения Присциана. Уже Тюро отмечал, что Присциан не только не сумел соотнести грамматические определения имени и глагола с определениями логическими, но что он имел неясное представление о функциях этих частей речи в предложении.
В более позднее время обе приведенные попытки определения главных частей речи воспринимались как равноправные н сопоставлялись между собой. Уже Боэций пытался осуществить их взаимопримирение, и такие попытки повторялись па протяжении всего средневековья. Грамматики придерживались в основном определений Присциана, но пытались интерпретировать их в соответствии с логическими критериями. Например. Присциан дал формальное определение глагола в терминах времени и наклонения, дополнив его семантическим значением активности или пассивности.
Петр Гелийский добавил логистическую идею Аристотеля, что глагол всегда является предикатом: «Во всяком законченном предложении говорится что-либо о чем-либо... Существительное было изобретено с тем, чтобы различать, что некто рассуждает [о чем-либо], а глагол — чтобы различать, что говорится об этом... особенно в отношении активности и пассивности». Очевидно, что здесь формально-грамматическое определение глагола, напоминающее присциановское, соединено с определением логико-синтаксическим.
В научной литературе распространено мнение о том, что разграничение имен на существительные и прилагательные, едва ли известное античным грамматикам, было осуществлено Петром Гелийским. Это мнение исходит, по-видимому, от Тюро: «Начиная с его (Петра Гелийского, — А. Г.) времени разделение имен на существительные и прилагательные стало общепринятым».
Древние грамматики имели представление об этом разграничении, но, по-видимому, недостаточно ясное; но всяком случае в области терминологии это разграничение не нашло отражения. Термин nomen substantiale, правда, встречается у одного грамматика IX в. В XI в. Ансельм обсуждает вопрос, обозначает ли слово grammaticus субстанцию или качество, не употребляя ни разу термин nomen substantivum или его эквивалент.
Надо признать, что Петр Гелийский испытывал затруднение в разделении имен на существительные и прилагательные. Это свое утверждение Тюро подкрепляет цитатой из комментария Петра Гелийского, на наш взгляд, противоречивой и не вполне ясной: «Древние по сути дела обычно проводят это разделение, так как всякое имя есть или существительное, или прилагательное, говоря, что то имя является существительным, которое само по себе может находиться в какой-либо части предложения, а прилагательное — то, которое не может. Но это разделение не подкрепляется ничьим авторитетом. Кроме того, явно ложным является мнение, будто прилагательное не может ставиться самостоятельно в той же самой части предложения».
Кто были эти древние грамматики и на каких основаниях они делили имена на существительные и прилагательные, остается неясным. Отсутствие примеров мешает понять и другое утверждение комментатора о том, что прилагательное может занимать те же позиции в предложении, что и существительные. Не в состоянии разрешить эти противоречия, Тюро заканчивает рассмотрение этого вопроса так: «Достоверно одно: сам Петр Гелийский часто употребляет термин nomen substantivum». Возможно, издание трудов средневековых грамматиков и их научное изучение позволит в будущем прояснить решение ими кардинальных грамматических вопросов.
Сопоставляя труд Петра Гелийского с рядом работ более ранних комментаторов и оценивая его собственный вклад в изучение языковых явлений, нельзя не заметить, что проникновение логики в грамматику, принявшее столь необычайные размеры, вызвало ответную реакцию против преобладания диалектики над грамматикой и тот же Петр Гелийский, несомненно под воздействием Уильяма Кончийского. приложил немалые усилия к тому, чтобы разграничить оба эти подхода к явлениям языка. Однако это никоим образом не означает, что Петр Гелийский стремился уничтожить всякое влияние диалектики; его задачей было освободить грамматику от решения вопросов, которые, по всей видимости, были совершенно не связаны с ее собственной целью.
Деятельность Петра Гелийского оказала значительное влияние на последующее развитие грамматических исследований, и его авторитет был очень высок у ученых позднего средневековья. Вот яркая и точная характеристика, данная Ш. Тюро работе Петра Гелийского свыше ста лет назад: «Петр Гелийский извлекает из Присциана то, что представляет собой определения, правила и рассуждения. Он устраняет почти все примеры. Он берет определения и обобщения, развивая их, и резюмирует остальное. Он часто останавливается, чтобы устранить возражения или обсудить вопросы, возникающие в связи с рассматриваемым текстом. Он несомненно опирается на своих предшественников (antiqui). Когда он приводит собственные мысли, он об этом уведомляет, но это уведомление встречается довольно редко.
Авторитет его, по-видимому, с XII в. был очень велик; и он не стал меньше в последующие века (его обозначают обычно только инициалами Р. Н. или словом „комментатор", как это делал Аверроэс). В XIV в. его имя, вероятно, было больше известно, чем его работа, которая больше не соответствовала характеру преподавания в XIII в. Его часто „цитируют", чтобы сослаться на мнения, которых он не высказывал, и на определения, которых он не давал. Ему приписывали все, что вводилось в грамматическую традицию после него».
А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон — История лингвистических учений — Л., 1985 г.

 |
Последующий период в развитии грамматических исследований характеризуется усилением в...
|
 |
Наиболее плодотворно работали грамматики второй половины XII в. в области синтаксиса....
|
 |
01.05.2025
1 мая вся страна отмечает Праздник весны и труда. Он посвящен солидарности трудящимся ...
|
 |
03.05.2025
3 мая празднуется Всемирный день свободы печати, напоминающий о том, что каждый читат ...
|