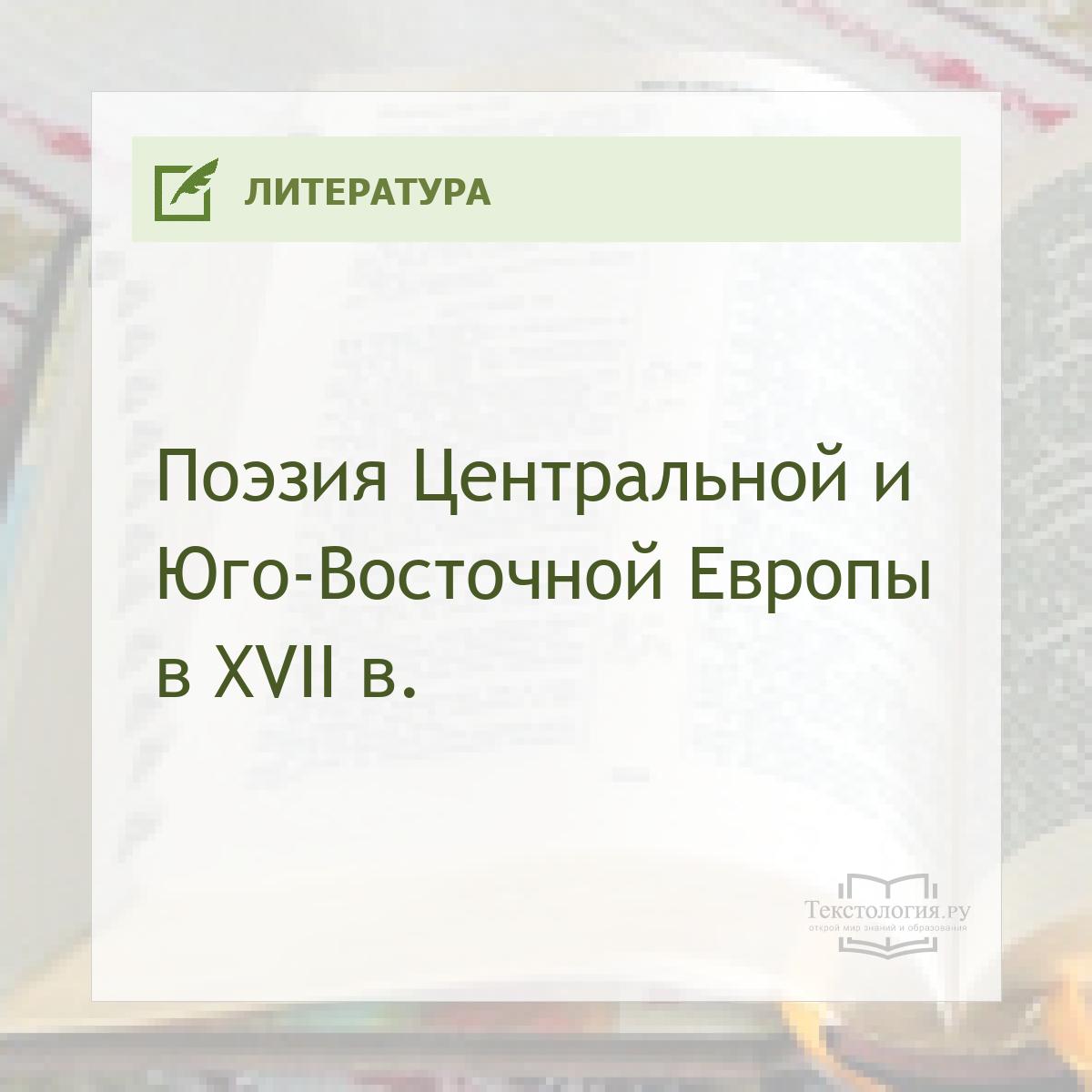
В итальянской ренессансной или барочно-маньеристской эпике поэты обращались к глубокой старине (Ариосто — к эпохе Карла Великого, Тассо — к крестовым походам), мифологизируя и идеализируя ее как некую эпическую условность, которая служила им почвой для наиболее свободного выражения собственных умонастроений и чувств.
Столкновение ренессансно-гуманистических традиций с требованиями Контрреформации находило, в частности, эпическое отображение в гиперболизированной героике рыцарской борьбы христиан с «сарацинами» за освобождение «гроба Господня».
По мере проникновения этих эпических традиций и новаций в изучаемые литературы они утрачивали свою сюжетную условность и освобождались от отвлеченности художественной проблематики. Проблема борьбы Запада и Востока под знаменами «креста» и «полумесяца» была здесь реальностью, а не уделом романтизированных припоминаний.
Поэтам предстояло примерить эпические костюмы блистательных паладинов Средневековья или сказочных восточных царей, придворных дам или прекрасных волшебниц (Армида у Тассо) на своих отечественных героев и их противников, применить такие средства изобразительности к своим ближайшим предкам и современникам. При этом разочарованность в гуманистических идеалах должна была уступить место пафосу национально-освободительной борьбы.
В русле подобных эпических увлечений творит «польский Вергилий» С. Твардовский, поэмы которого получают характер эпических хроник («Владислав IV, король польский и шведский», 1649). Ближе к собственно литературной эпической традиции стоит поэма «Сигетское бедствие» (изд. 1651) западновенгерского аристократа-католика хорватского происхождения М. Зрини (Зринского), для которого военная борьба с турками была не только делом собственной жизни, но и родовым рыцарским преданием. Воспевая подвиг своего деда и его воинов, оборонявших от турецких войск пограничную крепость Сигет, поэт придал совершенно новое значение волновавшим его образам произведений Ариосто, Тассо и Марино.
Поиски таких искусственно созданных эпических ситуаций, как фантастическая осада Парижа вымышленным сарацинским королем Аграмантом, воссозданная Ариосто в «Неистовом Орландо» (вслед за поэмой «Влюбленный Орландо» Боярдо), оказались теперь совершенно излишними.
Грандиозные батально-рыцарские картины «Освобожденного Иерусалима» должны были преобразоваться и наполниться таким содержанием, которое составляло еще живое наследие и злободневное достояние общества, лишь начинавшее обрастать эпической легендой.
Всем известные герои «Сигетского бедствия» погибали как эпические витязи, одерживая моральную победу над врагами родины и веры. На почве такого синтеза актуальнейшей национально-исторической тематики с высокими традициями итальянской литературной культуры возникало героическое венгерское барокко.
«Сигетская» тема стала популярной: брат поэта — П. Зрини (Зринский) перевел «Сигетское бедствие» на хорватский язык, появилось и «Взятие Сигета» П. Витезовича. Сам Зрини, правитель Хорватии, стал героем поэзии: его подвигам была посвящена поэма хорвата В. Менчетича «Труба словинская».
«Сигетскую» эпическую тему сменила более крупная по историческим масштабам «хотинская» тема. Литературный эпос отходил от древности и искал современных сюжетов, способных удовлетворить идеологические и эстетические требования национально-освободительных движений.
Во время польско-турецких войн за обладание украинскими землями Подольем и Волынью крупные сражения развернулись под г. Хотином (в 1621 г. и 1673 г.).
В упомянутой поэме С. Твардовского воспевался участник первой из этих войн, предводитель польских войск Владислав (королевич, затем польский король), победитель турецкого султана Османа II. В. Потоцкий в обстановке новой угрозы со стороны Османской империи также написал эпическую поэму о недавнем прошлом — «Хотинская война» (1670).
В дальнейшем, когда вместо Речи Посполитой и империи Габсбургов главной противотурецкой державой Европы становится Российская империя, появляется ода М. В. Ломоносова «На взятие Хотина русскими у турок в 1739 г.».
Среди изучаемых литератур XVII в. наибольшее художественное значение получила относившаяся к этой же теме поэма «Осман» поэта-патриция И. Гундулича. Если у Зрини эпическая поэзия строилась на предании, хотя бы и недавнем, то Гундулич прямо переносил эпическую традицию на общеизвестные события своего времени: в основу сюжета он положил хотинские сражения 1621 г.
Идеи единения «славянства» под предводительством единоверной для хорватов католической Польши и того же королевича Владислава приобрели в поэме «Осман» наиболее мощное звучание.
Лучшие ренессансно-барочные традиции хорватской и итальянской литератур соединялись у Гундулича с отечественным фольклорным преданием, идеями старинного дубровницкого свободолюбия и героикой современности.
Обращение западноевропейских эпиков к античной или средневековой образности, ставшей у них традиционной условностью, совершенно преобразилось у Гундулича. Такие реминисценции получали у него новую и глубоко лирическую окрашенность:
Твой ли это облик ясный,
О Эллада, мать родная!
Ты ли плод наук прекрасный
Даришь всем, не уставая?!
Турок взял твою свободу,
Отнял все твое богатство,
И свободному народу
Навязал, проклятый, рабство.
(Перевод В. Зайцева)
Пессимистическая настроенность и трагизм барочной поэзии не устраняются совершенно из этого эпоса, мотивы страданий за «грехи», размышления о «зле» и о трудностях «спасения» в нем еще чувствуются. Но эти мотивы утрачивают свою индивидуалистическую ориентацию и начинают распространяться на оценку реальных народных бедствий.
Они оттесняются жизнеутверждающей патетикой рыцарской доблести и служения великой цели национального освобождения.
Барочная эпическая поэзия Польши, Венгрии, Дубровника далеко отошла от задач Контрреформации. Религиозная тема борьбы с «неверными» занимала в ней значительное место, так как отвечала потребностям национально-освободительной борьбы.
Но тема эта получила в эпосе общехристианское содержание, приобрела патриотические черты и сблизилась с народным преданием. Такая проблематика эпического творчества становится в равной мере отличительной и для воспитанника иезуитов М. Зрини, и для католика, покаявшегося в «грехах» молодости, И. Гундулича, и для арианина В. Потоцкого.
Крупнейшие эпические поэмы изучаемых литератур создавались видными представителями феодальной аристократии, и в этом также одно из их отличий от западноевропейской эпики, бывшей по преимуществу уделом литературной интеллигенции.
Но героический эпос выходил за пределы сословно-феодальных интересов, потому что правители государств, короли и магнаты не могли не связывать собственных политических задач с общенациональными освободительными стремлениями.
Литературный эпос способствовал формированию отечественных, а нередко и общеславянских или даже межнациональных (славянско-венгерский и др.) идеологических требований эпохи, и именно это назначение закрепило за ним долгую литературную славу. В этих явлениях не случайно намечаются наибольшие типологические соответствия между литературой и фольклором.

 |
В Средней и Юго-Восточной Европе, в отличие от ряда западноевропейских стран, в общем...
|
 |
Наряду с локальными особеностями литература южных славян обладала некоторыми общими ч...
|
 |
01.05.2025
1 мая вся страна отмечает Праздник весны и труда. Он посвящен солидарности трудящимся ...
|
 |
03.05.2025
3 мая празднуется Всемирный день свободы печати, напоминающий о том, что каждый читат ...
|