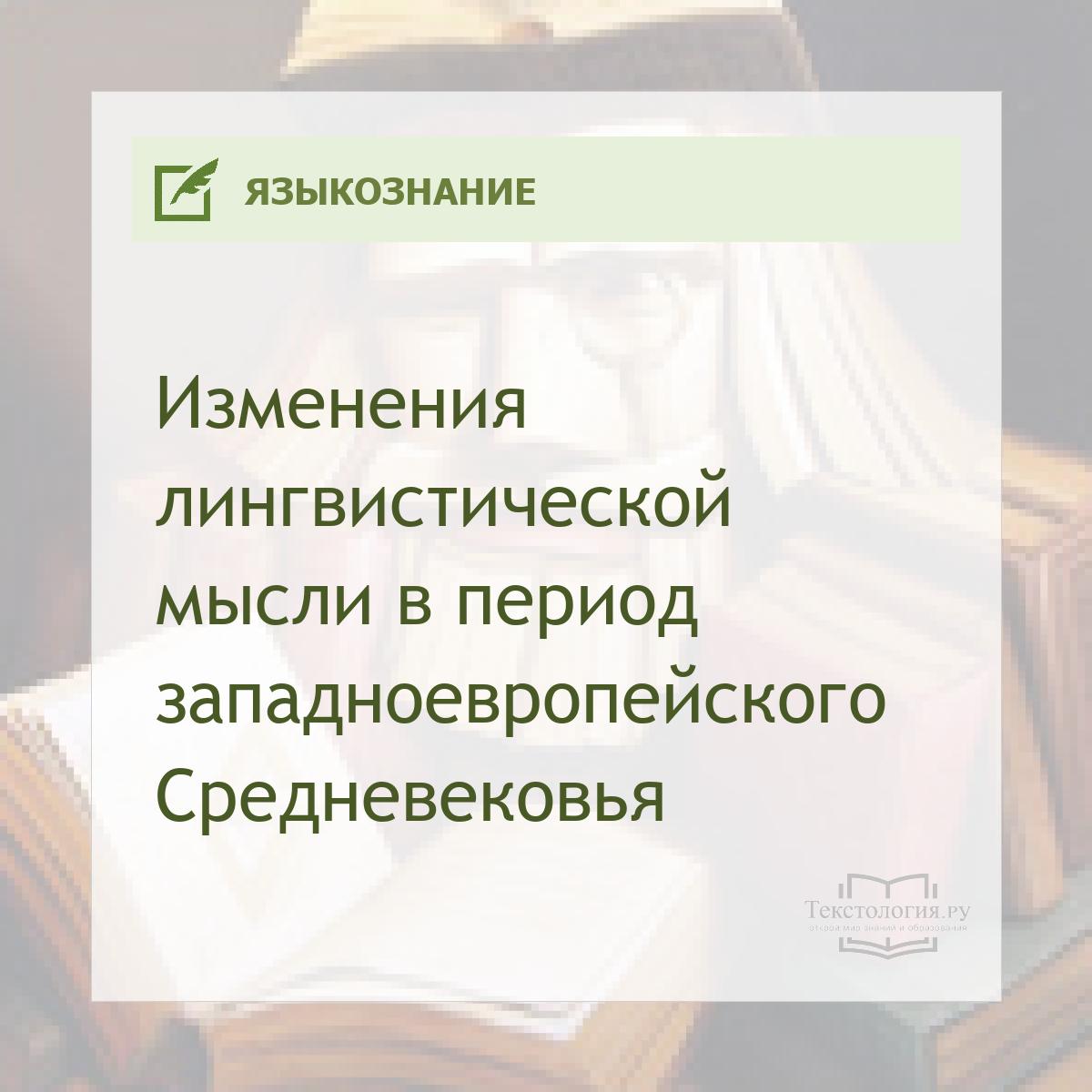
В XI в. появляются первые признаки изменения в направлении грамматической мысли; детали этого изменения и его инициаторы пока неизвестны. Внешним фактором, как уже отмечалось, было открытие полного корпуса работ Аристотеля по логике. Благодаря тому, что весь Organon Аристотеля стал доступен ученым или в версии Боэция, или в новых переводах второй половины XII в., некоторые из его языковых идей оказались довольно рано включенными в схоластическую грамматику.
Говоря словами Бёрсилл-Холла, «возможно, не будет большим преувеличением сказать, что воздействие Аристотеля на средневековых образованных людей XII —XIII вв. было единственным наиболее важным фактором в изменении направления грамматической мысли того периода... Аристотелевская мысль является всепроникающей в грамматике несомненно до конца средневековья». Одновременно Старая система семи artes liberales, из которых важнейшим была грамматика, так как она одна могла объяснить положения всех других наук и сама себе давала обоснование, стала подвергаться сомнению.
В течение XII в., как указывает Пинборг, семь artes liberales отступают на задний план и грамматика низвергается с трона. С развитием новых наук — теологии, медицины и права с их собственными специальными знаниями — грамматика не могла соперничать. На ее месте вспомогательным средством этих новых наук стала логика, которая устанавливала свои методы.
Такое изменение должно было стать значительным и для грамматики, которой предстояло приспособиться к требованиям и методам логики. Грамматика была связана с логикой особенно тесно, поскольку она как наука выросла из логических исследований Аристотеля и Стои. Отказавшись от своей привычной функции служить ключом к литературным текстам, грамматика оказалась перед опасностью быть поглощенной логикой. Логика сделала скачок вперед, став по преимуществу ведущей дисциплиной, и грамматика могла быть спасена только своим объединением с логикой.
Хант определенно прав, утверждая, что распространенное мнение о том, что инфильтрация диалектики в грамматику датируется лишь начиная с середины XII в. под влиянием Петра Гелийского, обусловлено незнанием работ его предшественников. В действительности примерно с середины XI в. комментаторы Присциана прилагали усилия к тому, чтобы создать свое специфическое искусство (ars) грамматики с привлечением диалектических методов и доктрин.
От современной науки пока еще скрыты подробности того важного изменения в направлении грамматических исследований, когда грамматика из дисциплины, призванной в первую очередь служить средством толкования текстов, превратилась в союзницу логики. Уже комментаторы Присциана XII в. ставили себе задачей дополнить его труд с логической точки зрения, чтобы ясно и единообразно дать определения классам слов, лучше объяснить их акциденции и указать причины «изобретения» (cause inventionis) как классов слов, так и их акциденций. В первую очередь здесь следует упомянуть имя Уильяма Кончийского, выдающегося ученого, который преподавал грамматику в Шартре примерно с 1120 г. и до конца жизни. В своей De philosophia mundi, в отличие от более ранних глоссаторов, он дал краткий обзор целей, которые, как он полагал, должен ставить хороший грамматик.
Особенности средневекового образования, преклонение перед авторитетом antiqui, никоим образом но препятствовало тому, что формулировки предшественников могли восприниматься как недостаточные. Уильям Кончийский упрекал Присциана и более ранних комментаторов его работ за то, что они довольствовались неясными определениями, не объясняя их, и особенно за отсутствие внимания к причинам «изобретения» частей речи и их акциденций. Выяснение этих причин могло бы объяснить классы слов и определить их общую грамматическую функцию лучше, чем слепое следование классическим авторитетам.
По словам Тюро. Уильям Кончийский исследовал не конструкции, а части речи и их акциденции, такие как род, число, наклонение, время, т. е. то, что было содержанием первых шести книг Присциана. Впоследствии он перестал связывать себя точным следованием тексту грамматики Присциана. а объяснял его определения и указывал, зачем каждая засть речи и каждая акциденция «изобретена»; например, имя изобретено, чтобы обозначать то, о чем говорят: род — чтобы отличать различие полов и т. п. «Пока еще невозможно дать полную оценку работы Уильяма Кончийского, но ясно, что он проложил путь для Петра Гелийского. первого подлинно оригинальнoго грамматика средневековья».
Среди комментариев к Присциану Уильяма Кончийского, Петра Гелийского и Роберта Килвордби комментарий второго из названных авторов считается в настоящее время наиболее значимым, хотя вполне возможно, что его оригинальность как грамматика неравноценна оригинальности Уильяма Кончийского, его учителя. Тем не менее комментарий Петра Гелийского, пронизанный новыми идеями в области грамматических воззрений, заслуживает самого внимательного рассмотрения, поскольку этот комментарий послужил отправным пунктом для дальнейшей эволюции учения о языке; завершением этой эволюции явились теории модистов, которые, по слонам Бёрсилл-Холла, «представляют собой первую в истории Западной Европы удачную попытку создания полностью интегрированной теории языка».
То, что Петр Гелийский не был первым, кто включил в грамматику новую диалектику под влиянием открытия заново аристотелевской логики, отнюдь не уменьшает значения его деятельности, которая в известном смысле может рассматриваться как кульминация переворота, начавшегося в конце XI в. Его достижения в области грамматической теории являются выдающимися, и это служит оправданием того особого положения, которое он традиционно занимает в истории средневековых грамматических учений.
Комментарий Петра Гелийского к Присциану (Summa super Priscianum) представляет собой не последовательное толкование текста, а скорее систематическое обсуждение взглядов Присциана с позиций той новой эпохи. «Это не значит, что он хотел отказаться от диалектики, особенно как метода анализа, но скорее означает, что он ясно выделил различие и в то же время близость между ними (т. е. между грамматикой и диалектикой, — А. Г.) и цель его была таким образом двойной: освободить грамматику от вопросов, которые не связаны с ее предметом, и включить в ее объяснение те аспекты диалектики и методологии, которые являются. важными для ее целей».
Не в первый и не в последний раз в истории науки о языке грамматика оказалась таким образом в плену у родственных дисциплин. Однако заслуга Петра Гелийского заключается именно в том, что он способствовал достижению грамматикой заметной степени автономии благодаря полной систематизации теорий своих предшественников.
Петр Гелийский предложил нам первую попытку полного, упорядоченного, систематизированного комментария к Присциану, представлявшего собой законченную сводку современного ему состояния сведений по грамматике. Используя методы диалектики, он в то же время, как указывает Хант, пытался сохранять употребление логических различий в грамматической теории в пределах определенных границ.
Summa super Priscianum Петра Гелийского анализируется Хантом с современных позиций в названной выше работе. Хант использует рукописи, хранящиеся в Париже, — Bibliothѐque de L`Arsenal 711 (XII в.) и Bibliothѐque nationale 16220 (XIII в.), высоко оцененные в свое время Ш. Тюро. Само заглавие — «Свод по Присциану» — свидетельствует о том, что перед нами не последовательный комментарий, но попытка систематизировать дискуссии о Присциане.
Композиция названного комментария отличается большой неровностью. Некоторые вопросы трактуются весьма подробно, автор обращается к ним несколько раз, давая лишь незначительные вариации: это природа глагола «быть», способ, которым имя обозначает субстанцию, и др. В то же время отдельные трудные вопросы только составлены, но не рассмотрены, например вопросы, касающиеся безличного глагола и значения причастия.
А. В. Десницкая, С. Д. Кацнельсон — История лингвистических учений — Л., 1985 г.

 |
Несколько слов о личности Петра Гелийского. Petrus Helias (или часто Helie, или Helye...
|
 |
Развитие нового подхода к решению грамматических проблем и попытку Петра Гелийского в...
|
 |
08.07.2025
8 июля наша страна отмечает День любви, семьи и верности. Это добрый российский празд ...
|
 |
29.06.2025
Отмечается 125 лет со дня рождения французского писателя, автора книг «Маленький прин ...
|