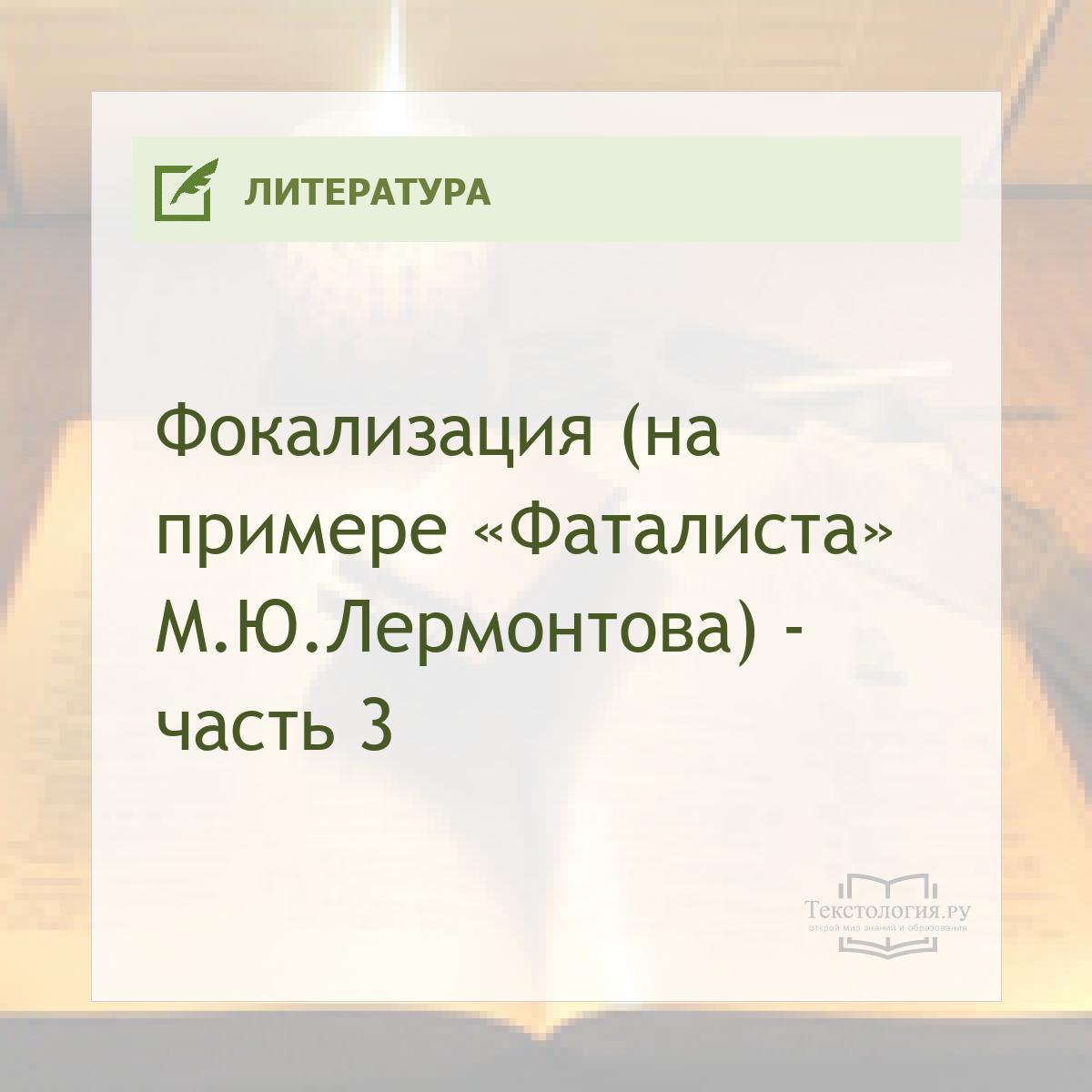
В том пучке мотивов, в том уникальном узоре их сплетения, каким является лермонтовская новелла, ключевая роль принадлежит лейтмотивам игры и смерти. Узелок этих «нервных волокон» художественной семантики неявным образом завязывается уже в нулевом эпизоде. Ракурс начальных кадров внутреннего зрения таков, что прожить в прифронтовой станице (т.е. на границе со смертью) для Печорина означает играть в карты. Прекращение игры становится началом разговора о смерти (предопределение как список, на котором означен час нашей смерти).
Продолжение разговора приводит к соединению лейтмотивов: к игре Вулича и Печорина со смертью (подбрасывание карты усиливает мотив игры). Выше уже говорилось о том, что страстный игрок Вулич, окликая казака, решил продолжить эту игру, которая ему показалась лучше банка и штосса. Переплетение названных мотивов составляет ткань вставного эпизода 1-а.
В ночных размышлениях возвращающегося после игры Печорина тон задает мотив смерти, словно тенью, сопровождаемый мотивом игры. Страсти и надежды предков (субмотив страсти через Вулича связан с игрой) давно угасли вместе с ними (смерть).
Далее Печорин размышляет о неизбежном конце (смерть) и наслаждении борьбы с людьми или судьбою (игра); о своей собственной безжизненности (я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно) после истощающей ночной борьбы с привидением (загадочные слова, которые, в частности, могут быть прочитаны как окказиональный эвфемизм карточной игры с судьбою — занятия по преимуществу ночного). Размышления прерываются тем, что герой спотыкается обо что-то неживое (туша зарубленной свиньи — сниженное, приземленное сгущение мотива смерти).
Заданный мотив смерти подспудно развивается затем с помощью деталей: посиневших губ безмолвной Насти (освещаемых, как и свиная туша, мертвенным лунным светом), а также сна Печорина со свечой (прозрачная символика смерти), — чтобы, наконец, персонифицироваться в образе трех (число античных богинь судьбы Парок) вестников смерти Вулича, которые и сами были бледны как смерть. В контексте последующего приключения, таящего для Печорина смертельную опасность, вестники смерти, пришедшие за мною, — звучит весьма многозначительно.
Далее мотив смерти доминирует как на лексической поверхности текста (неоднократные убит, смерть, убийца), так и на большей семантической глубине.
Например, за словами Вулич убит следует редуцированный образ омертвения: я остолбенел. А фигура окруженной воющими и причитающими женщинами старухи, поддерживающей свою, точно отрубленную голову руками, являющейся к тому же матерью убийцы, легко прочитывается как персонифицированный образ смерти. Ее шевелящиеся губы отсылают ментальное зрение читателя вспять — к улыбке Насти помертвевшими губами, а еще далее — к улыбке смерти на лице Вулича: ...бледные губы его улыбнулись: но <...> я читал печать смерти на бледном лице его.
Однако вместо назревающего апогея смерти (много наших перебьет) возрождается мотив игры: подобно Вуличу, одержимому страстью к игре, и Печорин вздумал испытать судьбу.
Ключевым субмотивом, сопрягающим игру и смерть, оказывается мотив сердца, изображением которого является подброшенный Печориным и трепещущий при падении червонный туз. В рефлексии хроникера о невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, субмотив сердца окончательно связывается с мотивом смерти. Не случайно Вулич умирает почти сразу же после удара, который разрубил его от плеча почти до сердца.
Во второй кульминации новеллы возникает прозрачная аллюзия рокового изображения сердца. В эпизоде 1 все глаза <...> бегали от пистолета к роковому тузу: в эпизоде 9 повествователь приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось (между тем как глазами он следит за движениями казака, вооруженного пистолетом).
Наконец, Печорин бросился в окно головой вниз. Эта карточная перевернутость человеческой фигуры в прямоугольнике окна (который ассоциируется с роковым прямоугольником игральной карты) уподобляет «бросок» Печорина удачному игровому ходу: фигура не убита. Одновременно этот жест — бросок вниз — перекликается с прекращением бостона, положившим начало новеллистическому сюжету (наскучив бостоном и бросив карты под стол), и контрастирует с броском туза кверху, когда сам Печорин не рисковал жизнью.
Наконец, мотивом случайной смерти (хуже смерти ничего не случится), которой, однако, не минуешь, завершается последняя печоринская медитация, несущая в себе специфически игровой образ жизни: обман, промах, решительность азартного игрока (я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает).
Рассмотренное соотношение лейтмотивов игры и смерти имеет тот художественный смысл, что азартная игра попадает в позицию универсальной антитезы смерти, т.е. в позицию жизни. Вы счастливы в игре, — говорит Печорин Вуличу по поводу того, что его собеседник продолжает жить.
Подобный строй видения жизни подрывает самую идею предопределения: жизнь случайна (каждый рассказывал разные необыкновенные случаи); многократно упоминаемая в тексте судьба есть отнюдь не рок (ни роковой туз, ни роковое окно, ни роковая минута так и не оказались роковыми), а всего лишь жребий — счастливый или несчастливый, как это случается в игре. Но такое воззрение не оставляет места и для волюнтаризма: своевольно располагать своей жизнью не позволяет наличие партнера — смеясною «другого» — как сущностной преграды (границы) всякого личного существования и сознания.
Впрочем, Максим Максимыч — «свой другой», представляющий для печоринского самоопределения не преграду, но, скорее, опору. Самоактуализация личности оказывается возможной не только в ситуации преодоления «другого», но и в ситуации солидарности с ним.
Мнимая неудача Печорина (Больше я от него ничего не мог добиться) выгладит в тексте новеллы на фоне предыдущих пародийной попыткой разрешить вопрос: может ли человек своевольно располагать своею жизнию? В частности, несколько неожиданные слова Максима Максимыча: ...того и гляди, нос обожжет, — достаточно очевидным образом перекликаются с печоринскими: Выстрел раздался у меня над самым ухом и ...приставив дуло пистолета ко лбу.
В этой параллельности телесных подробностей безопасное для жизни повреждение носа собственным выстрелом выступает как пародийное снижение роковых выстрелов, мишенью которых служили Вулич и сам Печорин.
Обращает на себя внимание, что на уровне фокализации полупародийный эпизод-эпилог (и одновременно пуант новеллы), казалось бы, не вносит ничего нового. Практически все детали этого участка текста (или их аналоги) уже встречались ранее. Однако эпизод 10 крайне интересен также и на мотивном уровне. Его «пуантность» состоит, в частности, в полном исчезновении из его детализации мотивов игры и смерти.
Словно в калейдоскопе, почти нечувствительный поворот приводит к тому, что те же самые детали складываются в совершенно новый, неузнаваемый узор: антиномии и уподобления, присущие романтической культуре уединенного сознания, сменяются простотой того ясного здравого смысла, каким издатель «Журнала Печорина» был поражен в Максиме Максимыче еще в «Бэле». Жизнь предстает уже не игрой, а эмпирической практикой повседневного существования.
Тюпа В.И. — Анализ художественного текста — М., 2009 г.

 |
Подобно тому, как сюжетный ряд эпизодов становится собственно литературным произведен...
|
 |
В «Фаталисте» ни Вулич, ни прочие офицеры не наделены голосами, которые л...
|
 |
08.07.2025
8 июля наша страна отмечает День любви, семьи и верности. Это добрый российский празд ...
|
 |
29.06.2025
Отмечается 125 лет со дня рождения французского писателя, автора книг «Маленький прин ...
|